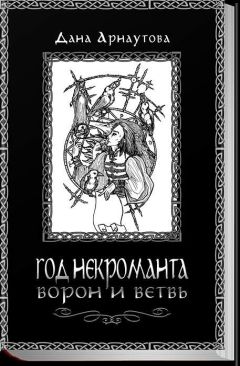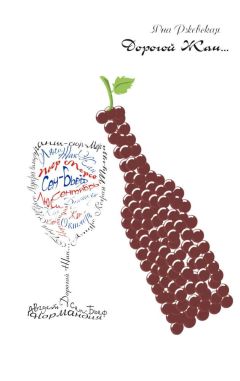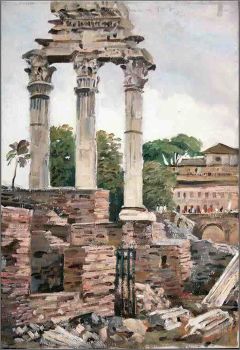Ворон и ветвь - Арнаутова Дана "Твиллайт"
– Не надо бояться, – говорю очень мягко и терпеливо. – Я искал тебя. Такую прекрасную, юную. Такую особенную, непохожую на других… Разве ты не рада, что я тебя нашел?
– Иска-али?
Я киваю, не позволяя ей оторвать взгляд. Вокруг уже совсем стемнело, и холод пробирает даже меня, но ей я мерзнуть не позволяю, кутая в нежное лживое тепло гламора.
Конечно, искал. Наудачу, совершенно наугад задав первое попавшееся направление из тех, что помнил по прошлым странствиям. Какова вероятность встретить девушку в зимнем лесу, да еще вечером? О, рано или поздно я бы нашел кого-то подходящего в этой славной глухой деревеньке или где-то дальше, но вот так, прямо указанную судьбой? Кто я такой, чтобы отказываться от ее подарков?
– Конечно, – ласково улыбаюсь я. – Конечно, искал. Ты слишком красива для обычной жизни, радость моя. Слишком хороша, чтобы отдать тебя какому-нибудь мужлану с грубыми руками и слюнявым ртом. Разве ты хочешь такой судьбы? Разве моя любовь не лучше?
– Лучше, – томно откликается она, и побледневшие было щечки расцветают розовым. – Лу-учше…
– Вот и я так думаю, – соглашаюсь, легонько касаясь губами ее губок, неумело сжатых. – Ты достойна большего. Любви, вечной юности и счастья. Настоящего счастья, правда?
Она кивает. Улыбается робко и уже счастливо, а я вздыхаю про себя. Так просто, что даже скучно. Нет, ничего иного я и не ждал. Откуда? Наивная деревенская девочка. Хотя многоопытная аристократка была бы не лучше и не хуже, вероятно. Они все мечтают о любви – прекрасные мотыльки, готовые прильнуть к такому желанному теплу свечи. Они хотят все больше и больше: жара, золотого света, упоения… Эту даже жалко, как можно пожалеть красивого зверька или только распустившийся цветок, живой, лишь пока не сорван.
– Идем со мной, – то ли прошу, то ли спрашиваю я, и она опять кивает, а я ставлю на снег полную корзину шишек. За неимением крошек она могла бы кидать их на тропу, отмечая дорогу обратно, только это совсем другая сказка.
Тропинка послушно стелется под ноги, деревья расступаются, такие услужливые и злорадные. Лес смыкается за нашими спинами, жадно вглядываясь невидимыми глазами. Лес голоден. Когда-то близящийся Йоль значил смерть для красивой девственницы, которую в морозную ночь оставляли в лесу обнаженной под деревом, увешанным внутренностями животных. Или не только животных. Потом цена года спокойной и сытой жизни снизилась, и уже идущая рядом со мной девочка вряд ли знает, что означают украшения йольского дерева. А потом и вовсе… Служители Единого скоры на расправу, и все реже простой люд оставляет на пнях у опушки хлеб и сыр, все реже расщелину старого дерева в середине леса втихомолку окропляют молоком и медом. Люди забыли, что лес все еще жив и неутоленный голод лишь растет. Но сегодня я буду с ним честен.
Мы останавливаемся на крошечной полянке, безупречно круглой и роскошно окаймленной заснеженными деревьями. Взошедшая луна заливает их светом, и серебро мешается с хрусталем, превращая лес в сказочный сон. Очень холодный и страшный сон. Девочка рядом со мной доверчиво улыбается, и я беру ее за руки, согревая холодные ладошки.
– Счастье, – говорю негромко, глядя в омуты зрачков. – Вечная юность и счастье на всю жизнь – если хочешь. Потому что ты прекрасна и должна остаться такой навсегда.
Она кивает. Разве не известно любой деревенской дурочке, что Дивный народ из холмов с радостью берет в жены красивых невинных девушек? Уводит их в свои холмы, дарит любовь и вечную юность… Но я лишь выполню то, что обещал.
Покоряясь настойчивой ласке моих рук, она прижимается, запрокидывает лицо, раскрывает губы навстречу моим сначала робко, потом все увереннее. И в самом деле красивая. Неужели даже не обручена? Может, в этом году на Бельтайн она бы ушла в лес со своим женихом. Может, даже именно на эту поляну. Не только от крови растет трава, любовь тоже годится.
– Ты самая прекрасная, – шепчу я восхищенно и ни капли не лгу. – Чудесная моя… Милая девочка…
Бедная славная глупышка. Даже не помнит, что сидхе, для того чтобы увести в холмы, должен знать имя. Я играю честно, я его не спросил. Она могла уйти, иначе какой смысл в игре? Но мотылек не может не лететь на огонь.
Расстегнув пряжку, я роняю плащ на снег. С изнанки он подбит тонкой мягкой овчиной, для полукровки этого вполне достаточно, а вот человек замерз бы. Лес вокруг замирает в нетерпеливом ожидании, когда мои пальцы ложатся на воротник ее плаща, заколотый большой медной булавкой. Шелестя, тот мягко опадает на мой – сверху. Под плащом у нее широкая юбка из такой же коричневой шерсти, темная кофта… И даже сорочка из тонкой светлой ткани, надо же. Похоже, девочка далеко не из бедной семьи. Что же ее в лес одну пустили? Как глупо…
Она стоит передо мной, скинув сапожки в снег рядом, узкие ступни вдавили ткань плащей в снег. Острые грудки натянули ткань сорочки, и хорошо видно крупные торчащие соски. Не до конца обманутое тело чувствует холод, но в глазах – пьяное жаркое лето, и я улыбаюсь, шагая к ней на плащ, притягивая к себе. Шепчу ласково:
– Ты моя. Страха нет, боли нет, смерти нет. Только ты и я. И счастье – видишь его? Чувствуешь?
Она кивает. Очень серьезно и решительно. И лето вокруг расцветает, изливаясь из ее глаз и сердца хмельным сладким жаром, согревая нас и почти опаляя. Гламор не всесилен, он может лишь поймать то, что существует и так. Поймать и усилить, создав картину из одного мазка, платье из ниточки и пиршественный стол из кусочка еды. Жара в этой девочке столько, что вполне хватает создать наш личный уголок Волшебной страны из одного сидхе-полукровки.
Мы опускаемся на плащ, и тот становится лугом, чья трава зеленее и мягче самого роскошного бархата. Ледяная стынь вокруг плавится и тает, смертельный блеск инея раскрашен в бело-розовые облака цветущего сада, пахнущего настолько слаще настоящего, что я невольно морщусь от приторности. Но это не мое воплощенное счастье, и я терплю.
– Люблю, – шепчет она отчаянно, вглядываясь в мое лицо. – Люблю, слышишь? Теперь всегда? Всегда вместе?
– Всегда, – обещаю я, гладя нежные округлые плечики, целуя розовые ягоды сосков, такие же приторно-сладкие, как и все вокруг.
Спускаюсь поцелуями по горячему животику, слыша приглушенные вздохи, дыша горячим запахом юности и желания. Она испуганно зажимает себе рот ладошкой – невежественное дитя, искушенное в любви меньше, чем мотылек, который хотя бы не умеет стыдиться.
– Всегда, – повторяю для нее, ложась рядом, лаская руки, спину и стройные бедра. – Девочка моя. Ты всегда будешь моей – и ничьей больше.
Лгать без лжи для сидхе естественно, как дышать, даже меня на это всегда хватало. Здесь, под лучами солнца, такого же фальшивого, как золото сидхе, ее глаза уже не черные, а карие, с крошечными золотистыми искрами. Хотел бы я, чтоб на месте этой человеческой малышки была Вереск? И да, и нет.
А потом мысли о Вереск плавятся в чистом и простом удовольствии, таком же чистом и простом, как эта девочка. Где-то далеко остались ледяное безмолвие и холодная синь, лес, как палач, прикрывшийся маской, жадно впитывает редкостное удовольствие. И я щедро отдаю все, что могу: жар страсти, тепло жизни, источаемую слиянием плоти силу.
И когда горячее тело подо мной напрягается первым, неожиданным для нее самой, никогда не знаемым еще всплеском телесной радости, я делю его на двоих, изливаясь в тугое, жаркое и сладкое.
– Да, девочка моя, – шепчу в изнеможении, – да…
Колышется и плывет над нами жаркое марево ее страсти и мечты, тает на фальшивом солнце медовый замок Волшебной страны из детских сказок. И я почти верю, что на этот раз все обойдется. Она действительно сильна, в ней, возможно, даже есть частица крови сидхе, так легко ее душа играет с гламором, выливая из него образы по своей форме. Я почти верю…
Холод. Боль. Страх? Нет, страх я гашу, как и всплеск боли. Шиплю сквозь зубы, но гашу, снова кутая ее гламором. Склоняюсь ближе, обнимая, заглядывая в проснувшиеся удивленные глаза, и шепчу: